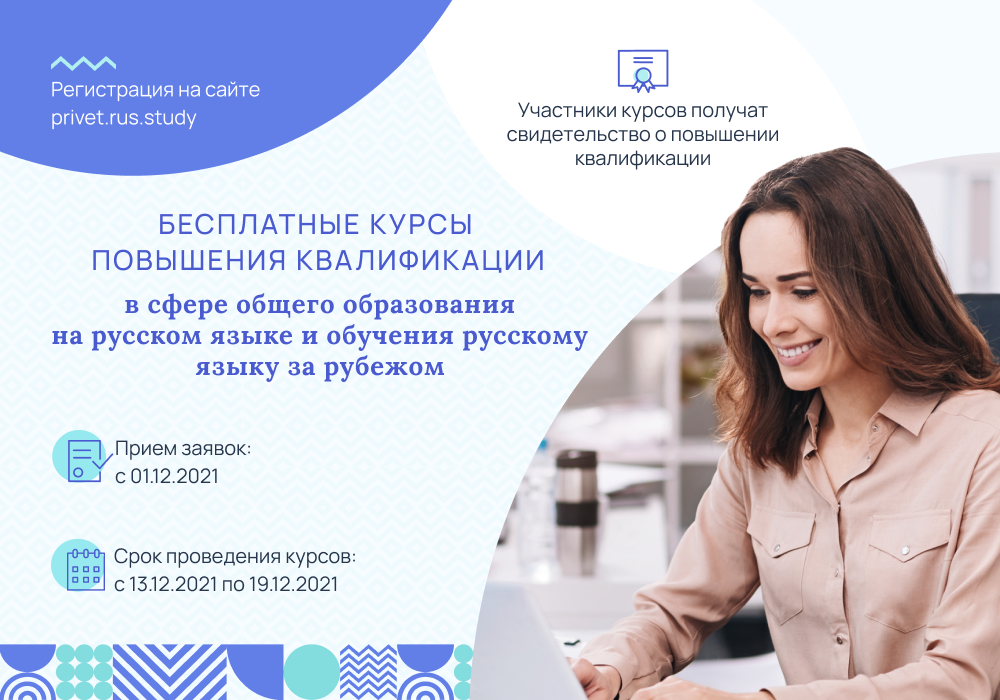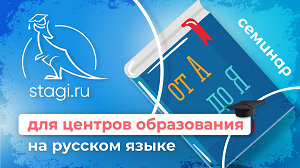|
|
|
Для писем
|
|
|
Главная » 2019 Август 17 » "Поэт на российских сквозняках"
08:35 "Поэт на российских сквозняках" |
 Удивительно, что в России, стране молодых, ещё неперебродивших национальных энергий, в краю беспредельности (в хорошем и плохом смыслах), почему-то принято, как нигде, регламентировать самое иррациональное — поэзию. Поэту отводят недолгий творческий срок, отмеряя его роковым Пушкинским числом — 37. Удивительно, что и сами поэты, едва ступив на хрупкий поэтический ледок, ещё неведомо куда ведущий — в Лету или в бессмертие, уже держат в уме это число («С меня при цифре 37 в момент слетает хмель...» — пел лет за десять до ухода Владимир Высоцкий). Но ведь далеко не каждого настигает пуля дантесов, куда чаще рано сходят с поэтической прямой совсем по другой, можно сказать, «бытовой» причине — «высокой страсти не имея для звуков жизни не щадить» (Пушкин). Нетрудно припомнить и воодушевляющие примеры завидного творческого долголетия: Фёдор Тютчев, Афанасий Фет, Константин Случевский, Анна Ахматова, Арсений Тарковский... С фатальными цифрами, судя по стихам, Геннадий Красников не «заигрывал» никогда, даже смолоду. Напротив. Когда рыночные тиски, куда попала наша святая и грешная русская литература, удушили немало поэтических голосов, когда закрывались поэтические редакции, а наиболее шустрые стихотворцы перешли на более оплачиваемые куплеты-пародии, он писал с особой продуктивностью и безоглядностью, по словам Георгия Иванова, «без гонорара, без короны, со всякой сволочью на "ты"», будто доказывал, что Россия была, есть и будет самой поэтической державой. Во вступительном слове к своей поэтической подборке в «Независимой газете» (2001, 15 июня) Красников высказал свой взгляд на роль поэзии в русском космосе: «Неслучайно именно русский поэт Фёдор Тютчев, пророчески предчувствуя соблазнённый западным материализмом XX век, дал определение пережитой нами болезни: "Революция есть не что иное, как апофеоз человеческого "я", как последнее слово отрыва личности от Церкви, от Бога". Сегодня, в поисках утраченного Неба, мы понимаем, что неслучайно прошли свой безумный век. Он дан нам Провидением. Теперь предстоит осмыслить, понять — для чего, против чего он нам дан, на какие грехи и тьмы открывает глаза. Кто внимательно прочтёт русскую поэзию от митрополита Илариона и автора "Слова о полку Игореве" до Державина и Пушкина, до Есенина и Юрия Кузнецова, тот не будет непоколебимо высокомерным к понятию "третий путь", которым так издевательски тычут Россию. А суть его предельно проста и раздражает только духовно-бесчувственных смердяковых. К. Леонтьев признавался, что его влечёт не страдающее, а поэтическое человечество. Это и есть Россия. Если не в сегодняшнем её дне, то в высшем своём замысле...» Геннадий Красников родился в 1951 году на Южном Урале, в городе Новотроицке (а точнее, в ныне несуществующем посёлке Максай) Оренбургской области. Жили трудно, потому из безотцовского детства в 14 лет пошёл работать электриком в автохозяйство. Занимался в литературном объединении при заводской многотиражке «Металлург» и городской газете «Гвардеец труда». Такие «лицеи» прошли многие поэты в «те баснословные года». После окончания вечерней школы в 1969 году поступил в Московский государственный университет на факультет журналистики. Выбор литературного пути определили и ранняя любовь к чтению, и яркие впечатления послевоенного детства, о которых хотелось рассказать миру. В рабочем посёлке Максай (каких по стране в то время было немало) собрались люди со всех концов империи — это был маленький Вавилон, тоже достойный мифологизации: «В посёлке жили —русские, татары, / украинцы, казахи, белорусы, / киргизы, немцы, латыши, евреи, / кавказцы, молдаване и цыгане — /войною сорванные с места люди, / вербованный, отчаянный народ!» («Отрывок»). И каждый со своей историей, своей легендой, своим мифом — лесковские «очарованные странники». Получив диплом журналиста, с 1974 года работал корреспондентом районной газеты в подмосковном городке Озеры, что на Оке. В 1978-м оказался в центре литературной жизни, став ведущим редактором издательства «Молодая гвардия», где вместе с поэтом Николаем Старшиновым выпускал всесоюзный ежеквартальный альманах «Поэзия». Благодаря созданной ими в редакции творческой атмосфере альманах явился «взлётной полосой» для многих ныне известных поэтов. Сегодня это уникальное издание — бесценный материал для будущих исследователей русской поэзии второй половины XX века. В трудные годы «перестройки», когда альманах был остановлен (1992), работал главным редактором издательства «Звонница-МГ», затем директором одного из коммерческих издательств. Однако вскоре, не сумев или не захотев вписаться в новые «рыночные отношения» литературно-издательской жизни и выбрав творческую свободу, ушёл на «вольные хлеба», как известно, самые трудные, особенно в такие переломные эпохи. А может, судьба так вела. Впервые стихи Геннадия Красникова были опубликованы в новотроицких газетах, но первым серьёзным выступлением в печати считает поэтическую публикацию в газете «Литературная Россия» (1976) с напутственным словом Е. М. Винокурова. Дебютная поэтическая книга Красникова «Птичьи светофоры» вышла в молодогвардейской серии «Молодые голоса» в 1981 году и получила премию имени А. М. Горького. Предисловие к ней в стихах написал Евгений Евтушенко, сразу выхвативший из первой, во многом наивной, лирической исповеди её центральную мысль: «И пока наша совесть больна / (слава Богу — не быть ей здоровой!), — /мы не судьи с тобой. Мы — вина. / Это наше последнее слово» («Э. По»). На эти строки Евтушенко откликнулся так: «Вот книга первая поэта. /Она не слишком приодета. / В ней на коленях — пузыри, / и локти светят изнутри. / ...И это мужество и зрелость/перед собою и страной — /найти внутри такую смелость / быть не судьёю, а виной». При той «атеистической погоде» даже интуитивное приближение к христианскому мироощущению казалось мужеством, правда, воспринималось в социальном срезе. Святослав Педенко писал тогда же в «Анкете для молодых критиков» («Литературная учёба», 1981, № 6): «Главное, чем привлекают его стихи, — обострённое чувство ответственности, да что там — вины за всё, что происходит в жизни. Опять же после "За всё в ответе" Твардовского это чувство многие любят декларировать, не имея его, у Г. Красникова оно есть». В антивоенной поэме-плакате «Эпицентр» («Юность», 1983, № 6) Геннадий Красников отойдёт от этого мироощущения, переболев, как большинство из его сверстников, лишённых в детстве святоотеческой литературы, советским вольтерьянством, и поставит в центр мироздания интеллект человека и его правоту, упрекая Создателя в несовершенно устроенном мире. Вместе с тем поэма была настолько актуальной для времени «холодной войны» и атомной угрозы, что по ней в нескольких городах страны, а также на Оренбургском телевидении были поставлены спектакли, в одном из украинских театров — рок-опера, а сам автор получил за неё премию им. Б. Полевого. Впоследствии поэт частично сохранит этот приём лирико-публицистического плаката в остросатирических эпиграммах на политические и литературные темы, где такой подход представляется наиболее приемлемым. Что же касается некоторых декларируемых идеологем поэмы «Эпицентр», то в дальнейшем творчестве автора они обрели свою мировоззренческую и эстетическую противоположность, что вполне естественно для человека, возвращающегося через сомнения и драмы к историко-культурным и духовным истокам и традициям. Во второй книге «Пока вы любите...» (1985) интуиция поэта снова приведёт его к предощущению божественности вселенной, к теме «Неба»: «...А небо возьмёт — всё, что мучило душу годами. / Земля, мы изрядно тебя отягчили — прости!.. / И небо — прости!.. Мы тебе как всегда недодали...» («Эпилог»). Евгений Винокуров в статье «Прикосновение к истине» писал об этом сборнике: «"Пока вы любите,.." мне представляется одним из лучших среди книг молодых поэтов, изданных за последние годы. Тончайшее чувство лирики в сочетании с философским осмыслением жизни придаёт стихам Красникова особую притягательность и гармонию». Этой философичностью, постепенно приближающей поэта к православной истине, а также горьким раскаянием в короткой исторической памяти отмечены следующие поэтические книги Красникова — «Крик» (1988) и «Не убий!..» (1990): «Мы же сами сожгли дочиста/всё, чем с прошлым соединены, / ночь тосклива кругом и пуста, / головою бы в омут с моста — / все мосты сожжены, все мосты сожжены» («Что там — рай впереди или ад...»). Спустя десять лет, на пороге XXI века, поэт определит характер минувшего столетия в афористичной формуле: «Мы — из прошлого века, нас все узнают, / за угрюмых таких — двух весёлых дают» («С неба хмурого снежная струйка течёт...»). Для стиля зрелого Красникова характерно сочетание философской углублённости, тонкой иронии с поэтической раскованностью словаря и ритма, идущих от интереса автора к богатству русского фольклора, к свободной частушечно-песенной стихии: «То оврагом, то сквозь лес, то под уклон, / то сквозь тучу тёмных галок и ворон, /ах, родней и веселей дороги нет!.. — / Что же, матушка, ты плачешь сыну вслед?..» («Русская песня», 1997). В его творчестве всё заметнее проявляется тяготение к цельному историческому контексту и религиозно-богословскому наследию русской мысли: «...И если ты открыл случайно,/ как на путях добра — пустынно, / молчи, не потому, что — тайна, / а потому молчи, что — стыдно... / ...И если мерзость ненасытна, / а глубина небес — кристальна, / молчи, не потому, что — стыдно, / а потому молчи, что — тайна» («...И если ты открыл случайно...»). В переломное для России время начала 1990-х годов, когда новые лукавцы стали культивировать мысль, что «литература — это частное дело», Красников обратился к публицистике и эссеистике, пытаясь в судьбах русских поэтов и писателей XX века, отразивших все искусы и обольщения своего времени, отыскать причины трагического состояния России современной. Опубликованные в столичной периодике статьи-исследования — «Затопили нас волны времён...» об Александре Блоке, «Роковая зацепка за жизнь...» о Сергее Есенине, «В слепых переходах пространств и времён...» о Николае Гумилёве, «Пророк Нового Мирового Порядка» о Евгении Замятине, «Тысяча и одна роль Евгения Евтушенко» о феномене «шестидесятников», «Юбилейный реквием по Шукшину», «А вы — всё те же» к 20-летию статьи А. Солженицына «Наши плюралисты», «Колера морбус» и др., — написанные ярко, страстно, без оглядки на сложившиеся штампы, сразу вызвали литературный резонанс и были перепечатаны рядом региональных изданий. Почти все они, а также статьи о самых заметных явлениях позднесоветского времени — Николае Заболоцком, Николае Рубцове, Константине Воробьёве, Николае Тряпкине, Владимире Буриче, Владимире Кострове, Иване Жданове и других, беседы с Юрием Кузнецовым, Владимиром Микушевичем, Николаем Старшиновым, масштабные культурософские исследования «Бытие и небытие Иосифа Бродского», «Опыт предварительного подведения поэтических итогов XX века» и многие другие критические работы вошли в книгу Красникова «Роковая зацепка за жизнь, или В поисках утраченного Неба» (2002). Эту книгу о вершинах и пропастях, подвижниках и иудах русской литературы можно назвать остросюжетным путеводителем по отечественной словесности XX века. Как известно, учитель и старший товарищ Геннадия Красникова, поэт фронтового поколения Николай Старшинов много сил отдавал составительской работе, собирая под одной обложкой самых разных авторов и оставив после себя десятки коллективных сборников, поэтических книг. Эту культурно-просветительскую традицию продолжил и его ученик. Под редакцией Геннадия Красникова, совместно с Владимиром Костровым, издана наиболее полная антология «Русская поэзия. XX век» («ОЛМА-Пресс», 1999; второе издание 2001), куда вошли стихи более чем 700 поэтов. Эта антология стала значительным явлением литературной и культурной жизни конца XX века, в год празднования 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина. Совсем нового поэта открыла вышедшая в Канаде книга верлибров Красникова «Голые глаза» (Монреаль, 2002). Свойственная жанру афористичная концентрация мысли («Человек человеку — /Долг»; «Слова — поводыри души»; «Время летит, / словно снег, /на огонь»; «Всё гениальное/светло и просто, / а всё бездарное / туманно и темно»), тонкая филологическая игра при сдержанной ироничности («Чем чаще/я слышу:/ МИРУ— МИР!/ Тем явственней /различаю: /МИР — УМЕР!») и лирический рисунок стиха («Снег — / падай, падай, падай, / чтоб видел я, куда / ведут её следы...») — все эти качества отвечают требованию лаконичной искренности и духовной собранности, которое предъявляет новый век современному творчеству. Стихи Геннадия Красникова, появившиеся в печати совсем недавно и вызвавшие горячий отклик многих любителей поэзии, открывают не только новые грани поэта, но и передают его трагическое ощущение бытия русской жизни последних времён... Земную жизнь пройдя до половины, я оказался... неизвестно где... Вокруг меня былой страны руины, чужая речь, чужие образины, где я, как будто пасынок чужбины, тону в летейской сумрачной воде... ...Стал возвращаться ветер слишком часто. Неужто в мире нет иных дорог? До хруста обнимает жизнь, до хряста, а ты, душа моя, ещё похвастай, как я на сквозняке Екклезиаста, на круговом ветру его продрог. Чтобы понять пророчества Екклезиаста, надо устоять на российских сквозняках. Любовь Калюжная  * * * Всё на месте: солнце на востоке, храм под солнцем, вечность впереди, шмель в бутоне, за морем пророки, слово в песне и душа в груди. 2005 * * * Жили-были. Всего изведали. Были — были и были — небыли. Было с нами, а стало снами, вроде видели мы их сами, вроде видели, подивились, как мы сами себе приснились, как нас — прежде чем поглотило — время щедро позолотило. Были хуже мы, победнее... Ладно, время, тебе виднее! Всё равно на родной сторонке все мы вписаны в похоронки, да и штампы на прошлом выбили: «Адресаты отсюда выбыли». 2004 * * * ...И если ты открыл случайно, как на путях добра — пустынно, молчи, не потому, что — тайна, а потому молчи, что — стыдно. И если за чужие брашна душой кривили мы искусно, молчи, не потому, что страшно, а потому молчи, что — грустно. И если древней Парки прялка рвёт жизни нашей нить невольно, молчи, не потому, что жалко, а потому молчи, что — больно. И если отчий дом заброшен, и в нём, как в детстве, не согреться, молчи, не потому, что — в прошлом, а потому молчи, что — в сердце. И если мерзость ненасытна, а глубина небес — кристальна, молчи, не потому, что — стыдно, а потому молчи, что — тайна... 2001 Колыбельная песня (По М. Лермонтову и Н. Некрасову) Спи, малыш, со сновиденьем, баюшки-баю! Смотрит месяц с удивленьем в колыбель твою. Я тебе сейчас (не к ночи!..) песенку спою, ты ж дремли, закрывши очи, баюшки-баю. На пути большом, кремнистом, чистом, как кристалл, был отец твой коммунистом, демократом стал, находил в любое время выгоду свою... Спи, его младое семя, баюшки-баю. Подрастёшь и потревожишь тишь да благодать. Где еще, скажи, ты сможешь «новым русским» стать? Нет такой земли на карте, лишь в родном краю... Спи — с мечтой о миллиарде!.. Баюшки-баю. Олигарх ты будешь с виду и подлец душой, провожать тебя я выйду, ты махнёшь рукой, от министра — мчишься в Думу, от жулья — к жулью... Спи, пока ещё без шуму, баюшки-баю. Словно клещ какой сосущий ты к стране приник, потому тебя всяк сущий назовёт язык. Купишь «Челленджер» и «Челси», Лондон, Кремль, семью... Спи, мой Ротшильд, спи, мой Черчилль, баюшки-баю. Пусть клянут страну другие, ты не будь таков, где найдешь, как не в России, столько дураков!.. Здесь и с голого рублишка всё — в мошну твою... Спи, прекрасный мой плутишка, баюшки-баю. Сухарей мешок в дорогу дам тебе, родной, ты его, моляся Богу, ставь перед собой. Почеши тогда в затылке, вспомни мать свою... Спи, покуда не в Бутырке, баюшки-баю. 2004 * * * Nel mezzo del cammin di nostra vita... Земную жизнь пройдя до половины. Данте Земную жизнь пройдя до половины, я оказался... неизвестно где... Вокруг меня былой страны руины, чужая речь, чужие образины, где я, как будто пасынок чужбины, тону в летейской сумрачной воде. Иллюзий прошлых, прошлых лет идиллий — летает серый пепел надо мной, хоть я их прежде не ценил, Вергилий, как не любил болотный запах лилий, но в памяти средь небылей и былей они цветут смертельной белизной. Глаза слеза невольная туманит, но только брань и смех со всех сторон, здесь новые Мамаи маркитанят, а тот, кто скажет им: «На вас креста нет!..», кто старое, помилуй Бог, помянет, тому и глаз, и сердце с корнем — вон! Стал возвращаться ветер слишком часто. Неужто в мире нет иных дорог? До хруста обнимает жизнь, до хряста, а ты, душа моя, ещё похвастай, как я на сквозняке Екклезиаста, на круговом ветру его продрог. 2004 * * * Не клином — клин, а себя — собой всю жизнь учусь выбивать, себя — собой, как тропу — стопой, и штормом — мёртвую гладь... Вину — тоской, а тоску — вином, и новой тоской — вино... Но в доме детства с пустым окном — чем выбивать окно? Судьбу — молитвою, небом — тлен, а завтрашний день — судьбой, твой берег — пеньем морских сирен, и только тебя — тобой. Быльём — былое, щедростью — взлом, а нищей сумой — тюрьму, и только зло невозможно — злом, и тьмою не выбьешь — тьму. Любовью — ненависть, светом — мрак, морошкой — барскую снедь, а жизнь — эпитафией: «Сам дурак!» и собственной смертью — смерть. 1999 * * * Звёзды яркие на тёмном небосклоне, ты опять всю ночь, мятежный, ищешь бури, а наутро в бардаке или в притоне просыпаешься, башка трещит, в натуре!.. Ох, и трудно быть поэтом в Вавилоне... Мухи плавают в компоте и в бульоне, и рассолу нет, и не в кого влюбиться, у Лауры грудь и зад на силиконе, все девицы потаскушки и блудницы... Ох, и трудно быть поэтом в Вавилоне. Все здесь пишут — чинодрал и вор в законе, ты ж обязан дифирамбы петь халтуре, не сечёт никто ни в Данте, ни в Вийоне, потрепаться не с кем о литературе... Ох, и трудно быть поэтом в Вавилоне! Сволочь всякая на троне и в короне всё гребёт и пересчитывает башли, словно в зоне, водят нас в одной колонне на строительство всемирной адской башни! Ох, и трудно быть поэтом в Вавилоне. Пир весёлый правят Бендер с Алькапоне, а на свалке, где пируют бомж и птицы, встретишь с родины ворону... и вороне будешь рад... И как же тут не прослезиться!.. Ох, и трудно быть поэтом в Вавилоне. 2004 * * * Кто с мечом к нам придёт, — от меча и падёт неизбежно! Для чего же судьбу искушать? — не ходи, не гадай на крови!.. Кто с любовью придёт,— от любви и погибнет, конечно, от чего же ещё погибать на Руси, если не от любви? В древней силе меча всё же есть свой резон извинимый, даже тучи столкнутся порою — и запад в огне, и восток, страшен тот, кто придёт с хохотком и улыбкой змеиной, прямо в душу вонзая отравленный свой хохоток... — Что ж ты, матушка-Русь, самых лучших своих, самых нежных, самых любящих, самых любимых — не можешь никак уберечь? — Оттого не могу, что опять в закоулках кромешных то терновый венец им готовят, то крест, то Голгофу, то меч... 2004 * * * Жили мы под Золотой Ордой, жили под орлом четырёхглазым, жили и под красною звездой, а теперь живём... под медным тазом. Били, неразумных нас, кнутом, пряниками зубы вышибали, чтобы под берёзовым крестом смирно мы по всей Руси лежали. И лежим мы смирно — там и тут... Русь моя, да разве ж так бывает? — вроде бы лежачего не бьют? Ну, а эти гады добивают!.. Видишь, эта новая орда над Кремлём подбросила в насмешку, как цыплёнка, старого орла... Был орлом — да превратился в решку!. Снова лгут, что мы — страна рабов, огляди кругом родные дали — видишь, стали мы страной гробов, но рабами всё-таки не стали! Больше не вмещает нас земля, но ещё сильней глумится злоба, скачут бесы за стеной Кремля, значит, время нам — вставать из гроба. Воздадим врагам не сгоряча, хладная рука найдёт злодея, если враг — для нашего меча нет ни эллина, ни иудея. Чтобы впредь поганить русский дом расхотелось мировому Хаму, будем бить мечом, дубьём, крестом, ибо мёртвые не имут сраму! 2005 * * * Я ухожу... Е. Б. Н. 31 дек. 1999 Мне не жаль тебя, пьяный дикарь, не размазывай слёз кулачищем, с медной рожей, как «красный фонарь», над дымящим ещё пепелищем. Сквозь кривую хмельную слезу, ты хоть помнишь, склероз пересиля, ты хоть знаешь, какую красу отдала тебе в лапы Россия? Да, любовь распроклятая зла, и злодея полюбишь и вора, но и даже злодей — не дотла, даже каторжник не до позора! Летописец коснётся пером в двух строках твоих танцев и шманцев: «Этот — в тысячелетье втором из последних у нас самозванцев...» И запомни: Россия с креста в белом платье сойдёт, возродится, но — другая, святая, не та, что в глазах твоих мутных двоится! 2000 Русская песня Ах, дорога, ты, дороженька моя, ты разбитая кривая колея, то дождём тебя осенним залило, то листвою, то метелью замело... Колея моя кривая, вечный путь, не проехать, не объехать, не свернуть, то начальник, то молчальник, то дурак, то остроги, то погосты, то кабак!.. А по сёлам и по весям-городам — то бойница, то больница, то Божий храм, так что если затоскуешь сердцем ты — на все стороны клади кресты, кресты... То оврагом, то сквозь лес, то под уклон, то сквозь тучу тёмных галок и ворон, ах, родней и веселей дороги нет!.. — Что же, матушка, ты плачешь сыну вслед?.. 1996 * * * Ослом соседа и его женой ты соблазнился, но в другие сети не попадись: не пожелай чужой — ни юности, ни старости, ни смерти. Своей судьбой, как будто бы межой, отгородись, всё прочее — химеры! — не пожелай — ни музыки чужой, ни памяти, ни Родины, ни веры! Чтоб самому не стать чужим ослом и шкурою на чьём-то барабане, живи — какой ни есть — своим умом и ставь свой крест меж отчими гробами. 1998 * * * …У женщины характер осени, то в золоте она, то в наготе, когда огнями глаз, как злыми осами, больно жалят в знойной темноте... У женщины характер осени, так поздний тёмный мёд порой горчит. Расскажет вам, о чём её не просите, о чём вы просите — молчит. У женщины характер осени, ей не страшна худая тень молвы, ещё вчера она была не гостья ли у вас в дому, где стали гостем вы?.. У женщины характер осени, блеснёт на миг очарованья час, жива, пока её не бросили, мертва, когда бросает вас... 1994; 1996 * * * В золотом окладе, как образа, рощицы расставлены по сентябрю... Почему слезами полны глаза — лишь в пустое небо я посмотрю? Загрустил о Родине?.. Постарел? К близким стал чувствителен холодам? Или сам негаданно опустел, как притихший этот предзимний храм? Облетает в душу мою — листва. Ничего «с нуля» уже не начну... И я сам роняю сейчас слова: «Не убий!..» — в осеннюю тишину... «Не убий!..» — курлычущих серых птиц. «Не убий!..» — последних сентябрьских дней. «Сохрани!..» — безгрешных, не тронь блудниц, «Не убий!..» — усталой любви моей... Но кого, не знаю, прошу о том, вглядываясь в мрак золотого огня, ни одной души на версту кругом, и никто не слышит, не слышит меня... * * * Я похож на того, кто, как прошлая весть, на глазах переходит в преданье, я похож на суглинок, на лёгкую персть, превозмогшую тяжесть страданья. Я похож на того, кто уже никому никогда на любовь не ответит, я похож на холодную вечную тьму, что так странно и греет, и светит... Я похож на того, кто земной суеты не изведал и мне завещает, я похож на безмерность простой немоты, той, которой душа не вмещает. Я похож на того, чья декабрьская прядь словно нимб над моей сединою, в ком никто уже в мире не сможет узнать горемычного сходства со мною. 1992 Крик Кто поймёт эту жизнь, кто загадку её разгадает, кто прочтёт её смысл на бесстрастном лице бытия — надо всем расхохочется и надо всем зарыдает, станет мудрым, как вечность, и станет смешным, как дитя! Кто откроет глаза и — вдруг, — потрясённый, прозреет, кто с подошв своих пыль миллионов веков отряхнёт, тот презреет себя, и себя в тот же миг пожалеет, и опоры себе во Вселенной нигде не найдёт. Но померкнут сомненья, отчаянье, горечь и страхи, лишь увидит он, как — с ним единую долю деля, словно пёс одинокий, к прохожему в холод, во мраке, льнёт к ногам его нежно одинокая наша Земля. И тогда, оглядев мирозданья пути ледяные, где не помнят, не знают его и не ждут, он полюбит впервые суровой любовью земные жернова, что и кормят, и ждут нас, и в прах перетрут... Нине, в день ангела Вот ещё один день, да ещё один снег, да ещё одна ночь и закончится век. Слышишь, ветер гудит под окном на пруду, это век или снег — вылетают в трубу? Зарекаться с тобой не обучены мы от сумы и тюрьмы, да от русской зимы. Нам с тобою вдвоём хорошо в январе, как прошедшим векам в золотом янтаре. Мы о прошлом потом погрустим. Всё равно в ту же реку два раза войти не дано. И не будем мы нежность менять на слова, в том судьба и права — что она не права... Видишь, дети с коньками бегут на каток. Замкнут крут. Подо льдом Гераклитов поток. 1999 * * * И снова золотым письмом октябрь неспешно перелистан. Мир состоит из аксиом, из прописных и детских истин. Не хмурь в раздумиях чело ни в дождь, ни в пору листопада, вся мудрость в том, что ничего, мой друг, доказывать не надо... 1998  Источник: сборник "Кто с любовью придёт...", Москва, издательство "Молодая гвардия", 2005. |
| Категория: Поэзия | Просмотров: 1377 | | |
| Всего комментариев: 0 | |